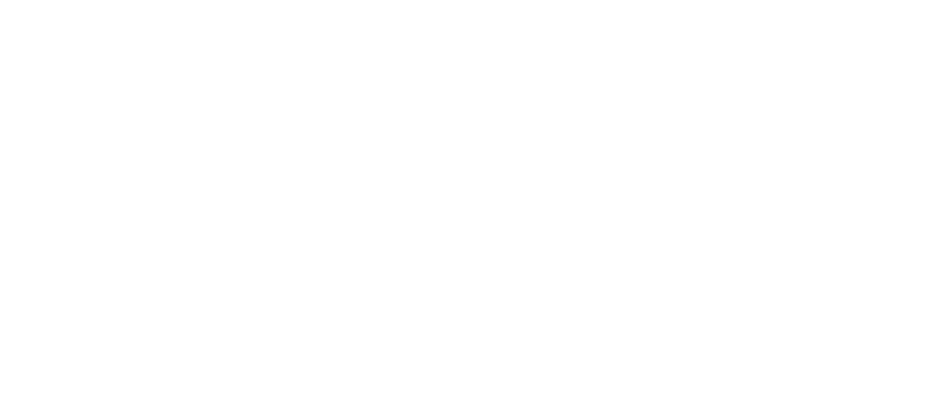
»
Николай Ядринцев родился в Омске, в купеческой семье, глава которой отличался прогрессивными взглядами и общался с декабристами.
В 1851 году переехал вместе с родителями в Томск. С 1854 года учился в пансионе Позоровского при Томской мужской гимназии, но курса не окончил. В возрасте 17 лет уехал в Санкт-Петербург, где стал вольнослушателем юридического факультета университета. В университете познакомился с Г. Н. Потаниным и С. С. Шашковым. Принимал активное участие в основании и деятельности землячества студентов-сибиряков, в среде которых зародились идеи сибирского патриотизма. В 1862 году печатался в «Искре» и «Русском слове».
В 1863 году вернулся в Омск, работал учителем, совместно с Потаниным был организатором литературных чтений. Вслед за Потаниным в 1864 году переехал в Томск, где сотрудничал в газете «Томские губернские ведомости». Опубликовал там статьи «Сибирь перед судом русской литературы», «Этнологические особенности сибирского населения». Выступив с публичной лекцией, в 1864 году также напечатанной в «Томских Губернских Ведомостях», горячо ратовал за скорейшее создание в Сибири своего университета.
В 1851 году переехал вместе с родителями в Томск. С 1854 года учился в пансионе Позоровского при Томской мужской гимназии, но курса не окончил. В возрасте 17 лет уехал в Санкт-Петербург, где стал вольнослушателем юридического факультета университета. В университете познакомился с Г. Н. Потаниным и С. С. Шашковым. Принимал активное участие в основании и деятельности землячества студентов-сибиряков, в среде которых зародились идеи сибирского патриотизма. В 1862 году печатался в «Искре» и «Русском слове».
В 1863 году вернулся в Омск, работал учителем, совместно с Потаниным был организатором литературных чтений. Вслед за Потаниным в 1864 году переехал в Томск, где сотрудничал в газете «Томские губернские ведомости». Опубликовал там статьи «Сибирь перед судом русской литературы», «Этнологические особенности сибирского населения». Выступив с публичной лекцией, в 1864 году также напечатанной в «Томских Губернских Ведомостях», горячо ратовал за скорейшее создание в Сибири своего университета.
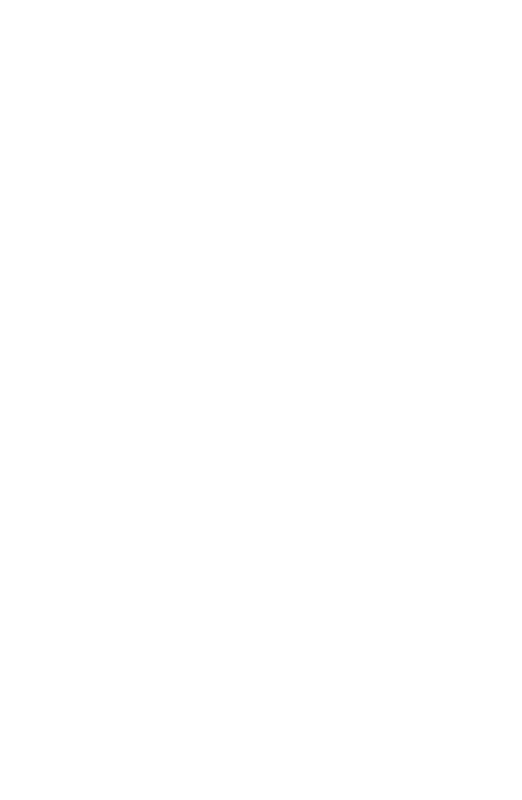
»
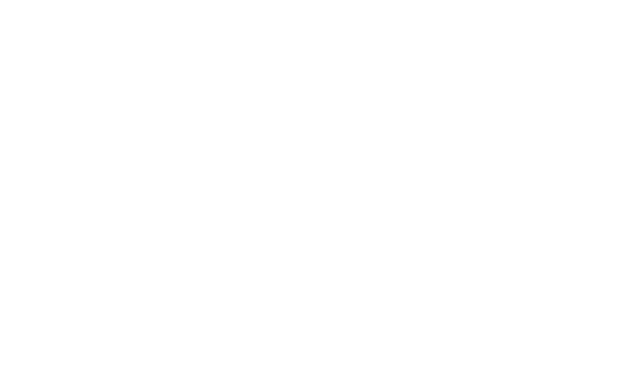
Григорий Николаевич Потанин, Николай Михайлович Ядринцев и круг их единомышленников дали первый пример людей умственного труда, которые росли из родной почвы, получали лучшие европейские знания и применяли их для блага малой родины с большой любовью к ней. Они явились не только культурным информационным слоем, но и бесценным питательным раствором, при помощи которого возникала региональная наука, образование, медицина, литература, журналистика, а главное – новый человек! Для того, чтобы Сибирь стала сильной и самодостаточной требовались харизматичные лидеры, способные объединить незначительные силы образованных, неравнодушных людей провинции. Еще одной чертой этого круга стало отсутствие местечковости как герметичного явления. Новые люди должны были вписывать местные проблемы в общероссийский и мировой контекст. До них «летучая интеллигенция», в основном состоящая из чиновников, использовало провинцию исключительно как территорию обогащения, не меняя и не привнося собственных столичных культурных установок и правил. Самым ярким из трех главных сибирских областников стал Николай Михайлович Ядринцев.
»
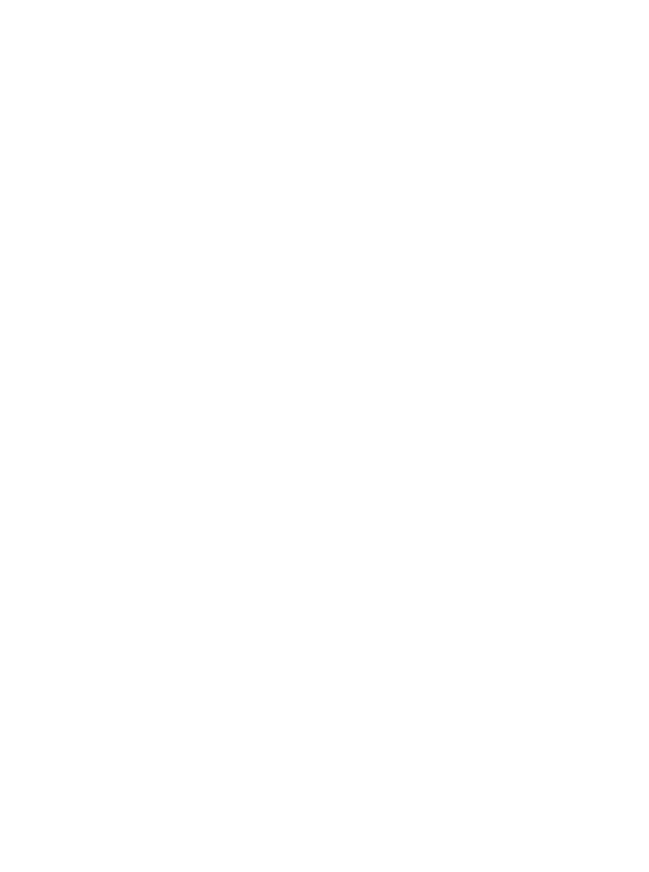
Григорий Николаевич Потанин сформулировал: «Ядринцев чувствовал раны на теле Сибири, как будто они были на его собственном теле. Нет другого публициста, который бы в такой мере сросся всеми фибрами с Сибирью; он по справедливости мог сказать о себе: «Сибирь — это я!..»
»
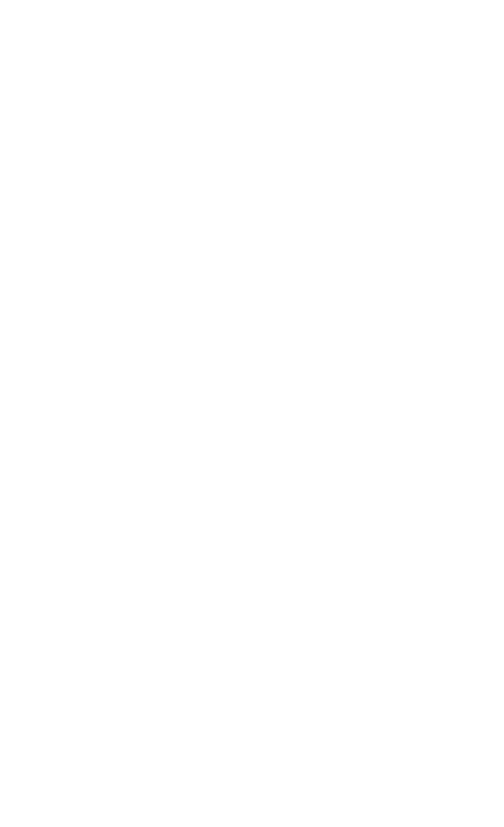
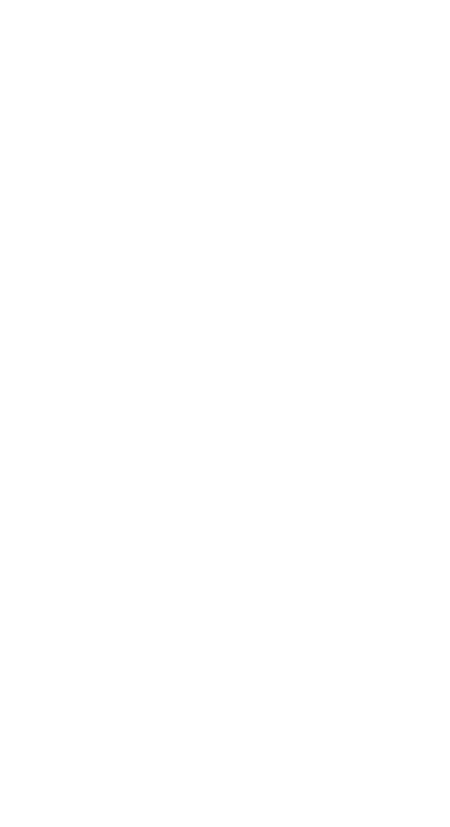
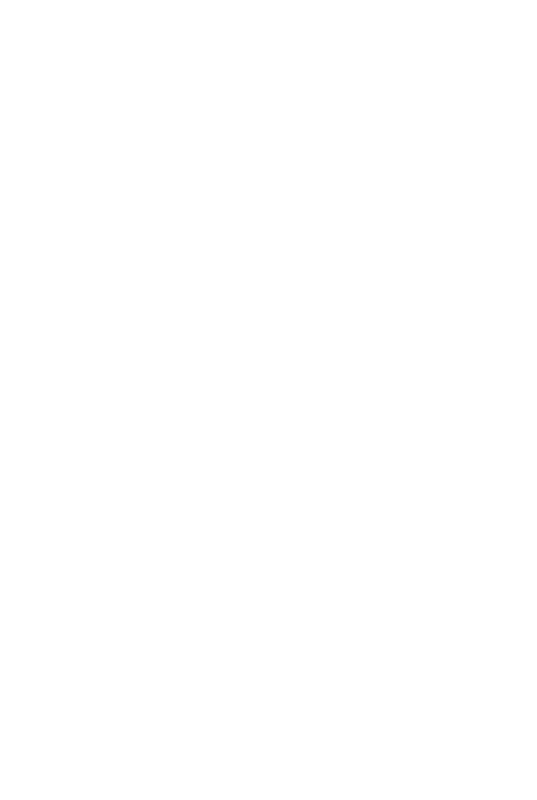
»
Первыми главными книгами Ядринцева стали «Робинзон Крузо» и «Записки охотника». В творении Даниэля Дефо происходит создание собственного космоса, в тургеневском цикле - открытие и систематизация окружающего мира. Всю жизнь Николай Михайлович Ядринцев, как и в любимых детских книгах, открывал, описывал, систематизировал и пытался наполнить космическим началом окружающий мир. Позднее к этим книгам прибавились «Записки из Мертвого дома» Федора Михайловича Достоевского.
»
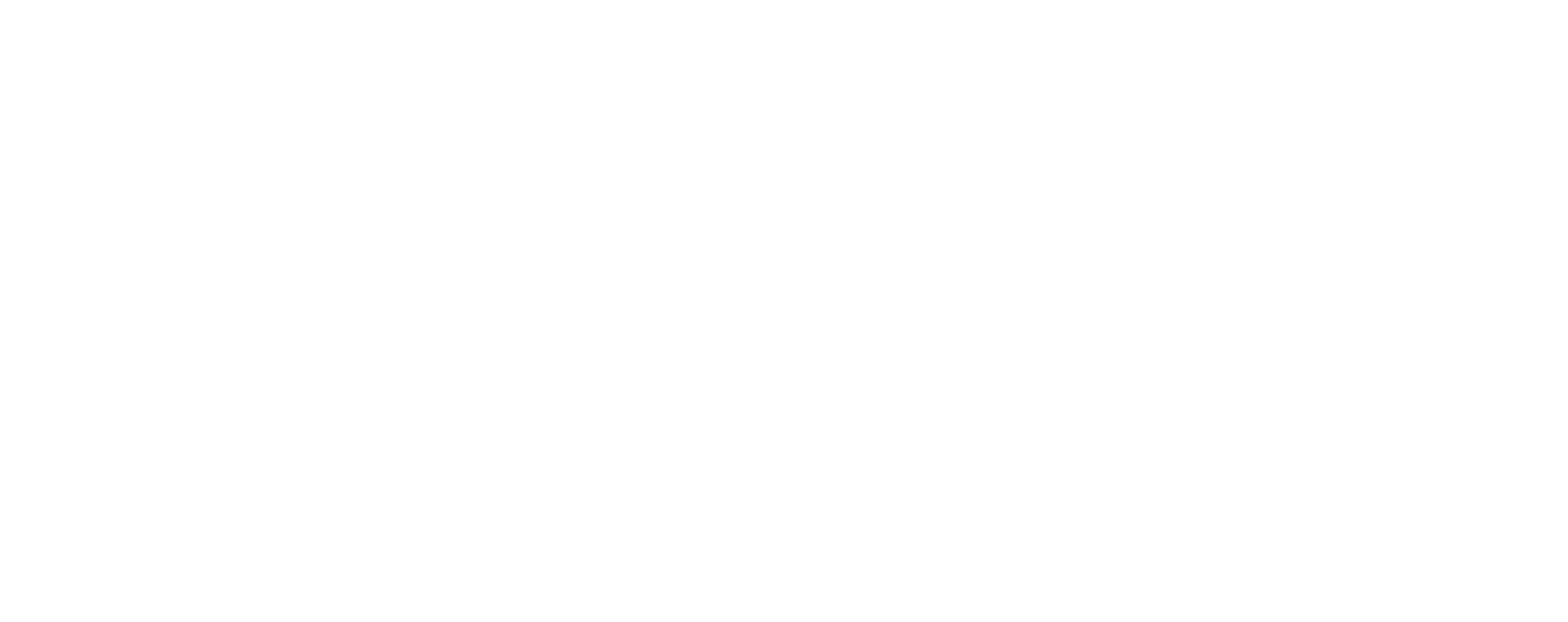
»
«Наступила весна 1865 года, мы были в самом радужном настроении, и наши патриотические планы все разрастались. Как вдруг внезапно в мае месяце 1865 г. разразилась над нами гроза. Мы были с Потаниным и Е.Я. Колосовым (поручиком артиллерии в отставке, имевшем частную школу в Томске) на заимке Пичугина на естественноисторической экскурсии, когда нас вызвали в город и подвергли домашнему аресту. Бумаги наши были захвачены. Мы сначала не знали, по какому делу, но мрачные предчувствия нас охватили. Через три дня нас отправили с жандармами в Омск, и здесь начались новые мытарства и горькие испытания».
После студенческих волнений 1861 года и последующих репрессивных действий, молодой шестидесятник отправляется в Омск, где дает уроки и пишет первые журналистские работы.
В декабре 1863 года он выступает с лекцией о необходимости открытия первого Сибирского университета. Запомним этот факт – первое публичное выступление - первые мечты о региональном высшем учебном заведении. Для Омска тема новая, для государевых людей – враждебная. С университетом и студенчеством в их сознании связаны фронда, бунт, революция.
Пока только два инструмента в руках у молодого Ядринцева: зажигательное выступление и публицистическая статья в каком-нибудь столичном издании. Но пока хватает и этого. Именно томская публичная лекция Серафима Серафимовича Шашкова в 1864 году воспринимается чиновниками как призыв к сепаратизму и становится спусковым крючком для начала борьбы с сибирских областниками.
В декабре 1863 года он выступает с лекцией о необходимости открытия первого Сибирского университета. Запомним этот факт – первое публичное выступление - первые мечты о региональном высшем учебном заведении. Для Омска тема новая, для государевых людей – враждебная. С университетом и студенчеством в их сознании связаны фронда, бунт, революция.
Пока только два инструмента в руках у молодого Ядринцева: зажигательное выступление и публицистическая статья в каком-нибудь столичном издании. Но пока хватает и этого. Именно томская публичная лекция Серафима Серафимовича Шашкова в 1864 году воспринимается чиновниками как призыв к сепаратизму и становится спусковым крючком для начала борьбы с сибирских областниками.
»
Период тюрьмы и ссылки был отмечен постоянной работой над большим трудом о русской неволе
»
После польского восстания 1863-1864 года сепаратизм мерещился везде. В неоконченной рукописи к автобиографии наш герой писал: «Что мы могли отвечать на вопросы следственной комиссии? В нашем сердце было искреннее желание мирного блага нашей забытой родине; нашею мечтою было просвещение, гражданское преуспеяние. В юношеских мечтах и желаниях многие местные вопросы еще были смутны и получили известную форму и тезисы только впоследствии. Мы отвечали, что желаем Сибири нового гласного суда, земства, большей гласности, поощрения промышленности, больших прав для инородцев. Что тут преступного? Что было преступного в горячей любви к своей родине? Но здесь патриотизм был принят за сепаратизм». Арестовали 44 человека со всей Сибири. На суде главными виновниками были назначены Потанин, Ядринцев и Шашков. После трехлетнего омского заточения на гауптвахте и в остроге, где арестанты-неофиты не тратили время зря, а разбирали местный архив, получая необходимые знания для дальнейших исследований, сибиряков отправили на север: Ядринцеву достался Архангельск и Шенкурск. Лейтмотивом этого периода стало «В тюрьме мы учились и много читали». А желанное земство и новый суд в Российской империи были утверждены высочайший указом через короткое время.
Период тюрьмы и ссылки был отмечен постоянной работой над большим трудом о русской неволе. Еще в Омске Николай Михайлович собирает информацию о ссыльных, в Архангельске он востребован как составитель записки о положении русской тюрьмы в виду предстоящей реформы, постоянно консультирует крупных чиновников о возможных изменениях в этой сфере русской жизни, на этапах и в острогах он наблюдает за типами каторжан и ссыльных, создает их типологию и художественные портреты.
Парадоксальным итогом становится книга ссыльного «Русская община в тюрьме и ссылке», вышедшая в 1872 году в Петербурге. Это не было открытием новой темы, так как уже существовали «Записки из Мертвого дома» Достоевского, «Енисейский округ и его жизнь» Кривошапкина. В 1871 году выходит «Сибирь и каторга» Максимова. Ядринцевский труд не только совместил (как и в последующих его книгах) научное осмысление и художественные портреты, но и дал тезисы как изменить сегодняшнее состояние, хотя и по цензурным соображениям повторял, что рассказ о «старой тюрьме». И его услышали, как и слышали потом. Крупные чиновники, реализующие судебную реформу Александра II, активно использовали труды и консультации ссыльного областника, и система наказаний менялась.
Период тюрьмы и ссылки был отмечен постоянной работой над большим трудом о русской неволе. Еще в Омске Николай Михайлович собирает информацию о ссыльных, в Архангельске он востребован как составитель записки о положении русской тюрьмы в виду предстоящей реформы, постоянно консультирует крупных чиновников о возможных изменениях в этой сфере русской жизни, на этапах и в острогах он наблюдает за типами каторжан и ссыльных, создает их типологию и художественные портреты.
Парадоксальным итогом становится книга ссыльного «Русская община в тюрьме и ссылке», вышедшая в 1872 году в Петербурге. Это не было открытием новой темы, так как уже существовали «Записки из Мертвого дома» Достоевского, «Енисейский округ и его жизнь» Кривошапкина. В 1871 году выходит «Сибирь и каторга» Максимова. Ядринцевский труд не только совместил (как и в последующих его книгах) научное осмысление и художественные портреты, но и дал тезисы как изменить сегодняшнее состояние, хотя и по цензурным соображениям повторял, что рассказ о «старой тюрьме». И его услышали, как и слышали потом. Крупные чиновники, реализующие судебную реформу Александра II, активно использовали труды и консультации ссыльного областника, и система наказаний менялась.
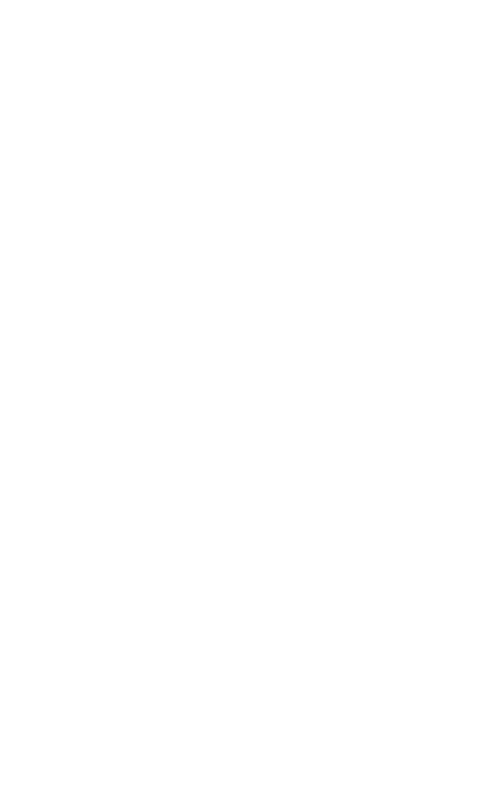
»
- Сбежавшие сибирские каторжники. Фото Джордж Кеннан
- Осужденные в Тюмени ждут, чтобы сесть на баржи для транспортировки по реке Обь в тюрьмы Сибири. Фото Джордж Кеннан
- Карандашный автопортрет Николая Михайловича (из архива оркп Научной библиотеки ТГУ)
- Русский заключенный в кандалах – портрет. Фото Джордж Кеннан
»
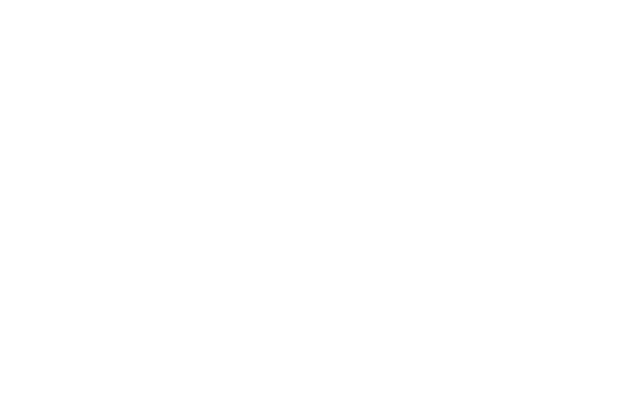
.
EВ конце декабря 1873 года, при содействии влиятельных лиц Николай Михайлович получает свободу и завершает «второе дело» ссыльного периода. С 1872 г. в Казани стала выходить “Камско-Волжская газета”, основанная Николаем Яковлевичем Агафоновым и Константином Викторовичем Лаврским. В январе следующего года два верных товарища Потанин и Ядринцев начинают писать для нее корреспонденции из Сибири, среди которых уже знакомые темы открытия университета, штрафная колонизация, тюрьма, ссылка и многое другое. «Камско-Волжская газета» становится первым опытом региональной печати с собственной повесткой, героями и событиями. Появляется «собственный орган мнения», позволяющий не перепечатывать столичные и зарубежные новости, а информировать центр о том, что происходит в метрополии. Объединение в одном издании Поволжья и Сибири создает объемный взгляд на трудности жизни периферии империи. Потанин и Ядринцев пишут такое количество статей, что вынуждены использовать уже несколько псевдонимов. К концу 1873 года эта еженедельная газета получает статус ведущего провинциального издания, а Николай Михайлович, наряду с Григорием Николаевичем признаются лучшими публицистами.
»
За год работы появляется бесценный опыт создания издания для провинции, который спустя десять лет будет использован при создании собственного «Восточного обозрения». Финал обыкновенен – публикуется цикл статей о самарском голоде с выходом в контекст других губерний. Цензура переводит «Камско-Волжскую газету» из Казани в Москву, где издание перестает существовать. Но на смену любимой газете приходит другая любимая…
»
«По приезде в Петербург, по поручению Г.Н. Потанина, я познакомился с корреспонденткой «Камско-Волжской газеты» Аделаидой Федоровной Барковой, жившей с матерью в Петербурге. Полгода она была моим почти секретарем, я совещался с ней о делах любимой «Камско-Волжской газеты, и это связало нас духовными интересами. В 1874 году я женился на ней и нашел товарища, друга и сотрудника… Женясь, я был бедняком-литератором со случайным заработком, но моя подруга не посмотрела на это, ее не остановила будущая бедность: она разделяла только мои лучшие цели и стремления приносить пользу обществу и родине» («К автобиографии»). Наступает новая эпоха.

»
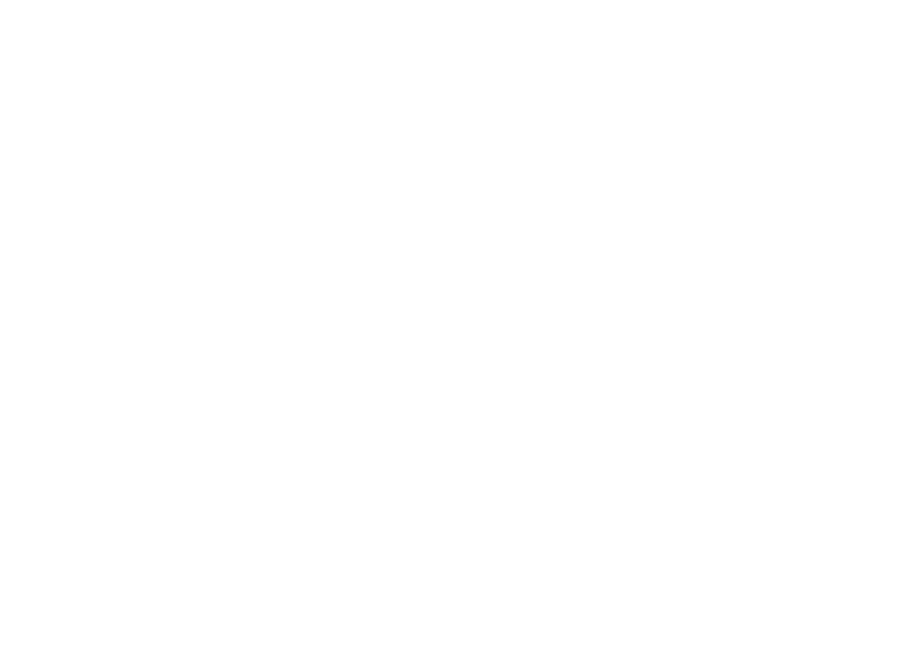
Слева направо: Просветители: М.Я. Писарев, Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин,
»
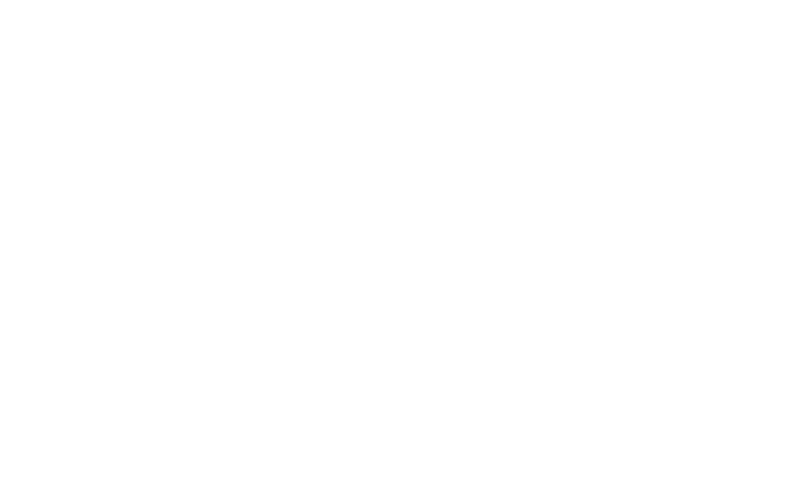
Новый генерал-губернатор Западной Сибири Николай Геннадьевич Казнаков просит, перебивающегося журнальной и газетной поденщиной, Ядринцева написать несколько записок о сибирских вопросах. Николай Михайлович радостно берется за этот труд, результатом которого становится предложение отправиться на службу в Омск. Получив поддержку от супруги, они отправляются в Сибирь. Несколько лет совместных трудов с Казнаковым дают не только бесценный материал, но исполнения давней мечты.
О создании первого в Сибири университета и формирования нового типа сибирского интеллигента Ядринцев не забывал никогда. Эта грандиозная задача решалась множеством статей в столичной и региональной прессе, главой в книге «Сибирь как колония», убеждением высоких чиновников. С 1873 года Потанин и Ядринцев работают над романом о сибирской жизни «Тайжане», где Ваныкин – карым (сибирский русский с примесью крови местных народностей), стремится к образованию и справедливости. Уже в первый год наметился общий финал, когда главный герой получает деньги на обучение в университете. Словом, все силы направлены на открытие первого высшего учебного заведения.
«Патрон» Николая Михайловича Ядринцева добивается у императора Александра II положительного решения. В 1880 году выходит указ о создании в Томске комитета по постройке Сибирского университета, но ждать еще 8 лет.
О создании первого в Сибири университета и формирования нового типа сибирского интеллигента Ядринцев не забывал никогда. Эта грандиозная задача решалась множеством статей в столичной и региональной прессе, главой в книге «Сибирь как колония», убеждением высоких чиновников. С 1873 года Потанин и Ядринцев работают над романом о сибирской жизни «Тайжане», где Ваныкин – карым (сибирский русский с примесью крови местных народностей), стремится к образованию и справедливости. Уже в первый год наметился общий финал, когда главный герой получает деньги на обучение в университете. Словом, все силы направлены на открытие первого высшего учебного заведения.
«Патрон» Николая Михайловича Ядринцева добивается у императора Александра II положительного решения. В 1880 году выходит указ о создании в Томске комитета по постройке Сибирского университета, но ждать еще 8 лет.
»
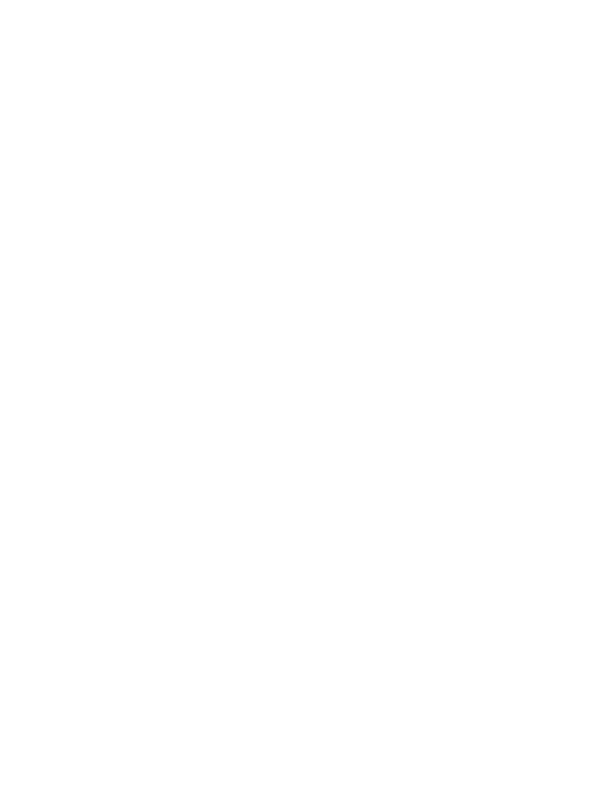
Первое издание «Сибири как колонии» вышло в 1882 году – в год 300-летнего юбилея присоединения Сибири к России, дате, когда атаман Ермак взял столицу Сибирского ханства город Искер. Работа над книгой заняла много лет, информация собиралась самыми разными путями: две экспедиции на Алтай, работа секретарем у графа Владимира Александровича Соллогуба. Основной блок официальных документов стал полностью доступен Ядринцеву благодаря работе в Главном управлении Западной Сибири в 1876-1881 годах тогда, когда он стал чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Западной Сибири Казнакове. Надо было обладать удивительным устройством мышления для того, чтобы сотни килограммов официальных бумаг были пропущены через фильтр личного опыта и стали первым серьезным научным трудом о Сибири, написанный рукой просвещенного европейского гуманиста.
Ядринцев зло и очень убедительно разрушает столичные стереотипы, раскрывая некоторые черты оседлого крестьянства. Патриот Сибири не повествует об идеальных торговцах, несущих медицину и дипломатию отдаленным территориям, монголам и китайцам, а фиксирует картину бессрочной кабалы бедных коренных жителей и дает яркие портреты мироедов от торгового класса. Мир чиновничества Сибири до реформ Михаила Михайловича Сперанского возникает в ореоле «Губернских очерков» Михаила Евграфовича Салтыкова – Щедрина, вышедших за 25 лет до «Сибири как колонии». Сутяжники от власти отправлялись в Сибирь, чтобы за короткий период ограбить местное население, заработать денег и вернуться в столицу с «записью в трудовой книжке» о служении в суровых местах.
Интересно, что вопросы, переосмысливаемые автором, не утеряли своей актуальности. До сих пор недра и лес Сибири в виде сырья отправляются в соседние государства и потом возвращаются в качестве продукции и продаются втридорога. Самые одаренные выпускники школ выбирают своим пространством развития столицу и остаются там после окончания университетов и академий.
И все-таки финальная глава первого издания «Сибири как колонии» завершается следующими мыслями: «Пробуждение общественной самодеятельности, развитие образования на Востоке и осуществление подготовляющегося университета может создать иную, лучшую роль сибирской окраине… Когда-нибудь здесь предвидится великая работа общечеловеческая работа». Это многолетний, фундаментальный труд по сегодняшний день является методологий исследований о колонизации.
Ядринцев зло и очень убедительно разрушает столичные стереотипы, раскрывая некоторые черты оседлого крестьянства. Патриот Сибири не повествует об идеальных торговцах, несущих медицину и дипломатию отдаленным территориям, монголам и китайцам, а фиксирует картину бессрочной кабалы бедных коренных жителей и дает яркие портреты мироедов от торгового класса. Мир чиновничества Сибири до реформ Михаила Михайловича Сперанского возникает в ореоле «Губернских очерков» Михаила Евграфовича Салтыкова – Щедрина, вышедших за 25 лет до «Сибири как колонии». Сутяжники от власти отправлялись в Сибирь, чтобы за короткий период ограбить местное население, заработать денег и вернуться в столицу с «записью в трудовой книжке» о служении в суровых местах.
Интересно, что вопросы, переосмысливаемые автором, не утеряли своей актуальности. До сих пор недра и лес Сибири в виде сырья отправляются в соседние государства и потом возвращаются в качестве продукции и продаются втридорога. Самые одаренные выпускники школ выбирают своим пространством развития столицу и остаются там после окончания университетов и академий.
И все-таки финальная глава первого издания «Сибири как колонии» завершается следующими мыслями: «Пробуждение общественной самодеятельности, развитие образования на Востоке и осуществление подготовляющегося университета может создать иную, лучшую роль сибирской окраине… Когда-нибудь здесь предвидится великая работа общечеловеческая работа». Это многолетний, фундаментальный труд по сегодняшний день является методологий исследований о колонизации.
»
С уходом супруги ушла и значительная часть самого Ядринцева. К тяжелой личной потере прибавилось непонимание иркутских коллег, передача «Восточного обозрения» в чужие руки. В письме от 16 августа 1888 года писал теще Александре Ивановне Барковой: «В последние дни я забываюсь, только работая до утомления, до изнеможения, иначе, когда остаюсь праздный со своими чувствами, я сознаю ужасную внутреннюю пустоту, и тоска давит меня. Я борюсь, мужаюсь и призываю свои силы пережить это время».
Выходом из горя и кризиса стала экспедиция на Орхон. Николай Михайлович проштудировал источники о древней столице Каракорум, заручился поддержкой Русского географического общества, собрал мобильную группу из 4 человек, добавил собственных средств и отправился в Монголию. Современные археологи сомневаются в этом «научном чуде»: Каракорум искали многие, в том числе в нескольких монгольских и китайских экспедициях друг Григорий Николаевич Потанин. Расстояние от Кяхты до верховий Орхона и обратно заняло 50 дней, за которые было пройдено 1,5 тысячи верст. Ядринцев был далеко не в лучшей физической форме, но провидение было на его стороне. «Первые развалины, встреченные экспедицией, были на реке Тола – это были развалины дворца Ирхе-Мерген-хана… Отсюда экспедиция почти ежедневно наталкивалась все на новые и новые развалины… Но самые интересные развалины были в 50 верстах к югу от Угрей-Нора у монастыря Эрдени-Цзо. На первом были найдены развалины Хара-Балгасуна – остатки города, обнесенного глинобитной стеной и дворца. Близ дворца был найден разбитый гранитный памятник. Другой подобный же памятник находился в ½ версты от первого. Обломки ясно доказали, что это были громадные монументы или обелиски - высотою в 350, шириной в 131 и толщиною в 52 сантиметра. На обломках были видны барельефы, изображающие как бы сплетшихся драконов, чешуя которых была испещрена – на первом памятнике теми загадочными надписями, которыми покрыты скалы и камни в минусинском краю, а на втором – кроме надписей на этом непонятном языке, была надпись и параллельная ей на китайском языке» - пишет Иван Иванович Попов в статье «Открытия на Орхоне и дешифрование древних надписей». Параллельные надписи на китайском языке позволили найти ключ к древним рунам. После обелисков были обнаружены следы и столицы Чингиз-хана Каракорум. Короткая монгольская экспедиция принесла Ядринцеву всемирную славу вписав его имя в один ряд с Марко Поло и Плано Карпини. Уже в 1891 году Николай Михайлович повторял дорогу к памятнику в экспедиции Василия Васильевича Радлова, которая и провела первые научные археологические раскопки. Исследования середины ХХ века так же подтвердили истинность открытия Николая Михайловича. Каракорум только подтвердил, что для настоящих открытий недостаточно кабинетного пространства – необходима работа в «поле».
Выходом из горя и кризиса стала экспедиция на Орхон. Николай Михайлович проштудировал источники о древней столице Каракорум, заручился поддержкой Русского географического общества, собрал мобильную группу из 4 человек, добавил собственных средств и отправился в Монголию. Современные археологи сомневаются в этом «научном чуде»: Каракорум искали многие, в том числе в нескольких монгольских и китайских экспедициях друг Григорий Николаевич Потанин. Расстояние от Кяхты до верховий Орхона и обратно заняло 50 дней, за которые было пройдено 1,5 тысячи верст. Ядринцев был далеко не в лучшей физической форме, но провидение было на его стороне. «Первые развалины, встреченные экспедицией, были на реке Тола – это были развалины дворца Ирхе-Мерген-хана… Отсюда экспедиция почти ежедневно наталкивалась все на новые и новые развалины… Но самые интересные развалины были в 50 верстах к югу от Угрей-Нора у монастыря Эрдени-Цзо. На первом были найдены развалины Хара-Балгасуна – остатки города, обнесенного глинобитной стеной и дворца. Близ дворца был найден разбитый гранитный памятник. Другой подобный же памятник находился в ½ версты от первого. Обломки ясно доказали, что это были громадные монументы или обелиски - высотою в 350, шириной в 131 и толщиною в 52 сантиметра. На обломках были видны барельефы, изображающие как бы сплетшихся драконов, чешуя которых была испещрена – на первом памятнике теми загадочными надписями, которыми покрыты скалы и камни в минусинском краю, а на втором – кроме надписей на этом непонятном языке, была надпись и параллельная ей на китайском языке» - пишет Иван Иванович Попов в статье «Открытия на Орхоне и дешифрование древних надписей». Параллельные надписи на китайском языке позволили найти ключ к древним рунам. После обелисков были обнаружены следы и столицы Чингиз-хана Каракорум. Короткая монгольская экспедиция принесла Ядринцеву всемирную славу вписав его имя в один ряд с Марко Поло и Плано Карпини. Уже в 1891 году Николай Михайлович повторял дорогу к памятнику в экспедиции Василия Васильевича Радлова, которая и провела первые научные археологические раскопки. Исследования середины ХХ века так же подтвердили истинность открытия Николая Михайловича. Каракорум только подтвердил, что для настоящих открытий недостаточно кабинетного пространства – необходима работа в «поле».

Этнографические маргиналии Н.М. Ядринцева (из архива оркп Научной библиотеки ТГУ).
»
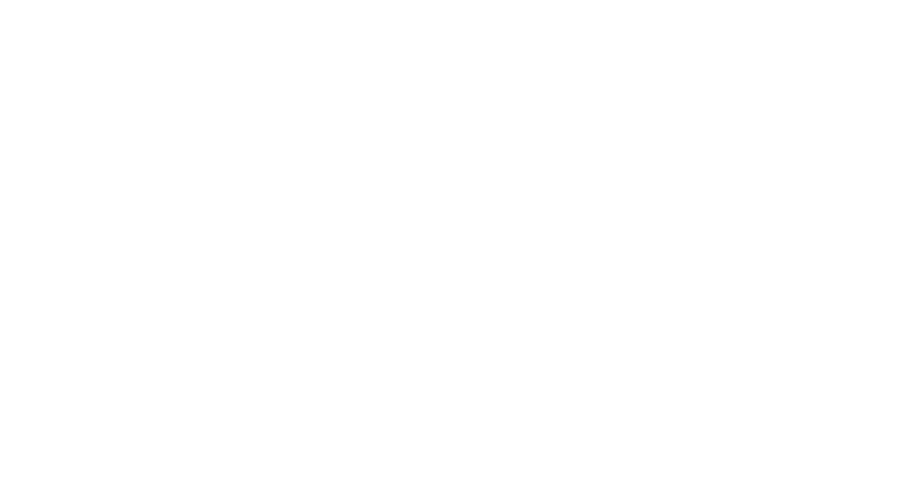
It is necessary to choose a visual aid that is appropriate for the topic and audience.
Параллельно с написанием книги Ядринцев продолжает создавать центры развития регионов. Складывается ощущение, что задачей было одновременное пробуждение многих сибирских городов. Сегодня в большинстве этих областных и краевых центров есть улицы, носящие имя просветителя. В Иркутск переносится редакция главного журналистского детища - газеты «Восточное обозрение», в Томске готовят открытие университета, в Тюмене начинаются действия романа «Тайжане», планируется усиление статистического отдела Управления Алтайского горного округа в Барнауле, в Омске открывается Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества. И все это связывается одной личностью, которая еще и успевает «сбегать от государственной службы» в экспедиции на Алтай и писать фундаментальные труды, отчеты для ИРГО, роман, повесть и стихи. Позднее изучать жизнь Европы и Северо-Американских соединенных штатов.
Наконец 22 июля 1888 года университет открыли – 25-летний отрезок мечтаний и трудов был завершен. Через два дня выходит номер «Восточного обозрения», основная часть которого посвящена разножанровым материалам об открытии главного учебного заведения Сибири. Здесь аналитические статьи, история создания, библиография, поздравления, стихи. Университет открыт – миссия выполнена, но судьба берет высокую цену за эту победу. В этом же номере на 12 полосе маленький квадрат некролога Аделаиды Федоровны Ядринцевой – супруге, матери троих детей Николая Михайловича, верной помощницы в трудах и экспедициях, скончавшейся за 5 дней до томского триумфа. В одном номере «Восточного обозрения» развязаны два главных «узла» жизни.
Наконец 22 июля 1888 года университет открыли – 25-летний отрезок мечтаний и трудов был завершен. Через два дня выходит номер «Восточного обозрения», основная часть которого посвящена разножанровым материалам об открытии главного учебного заведения Сибири. Здесь аналитические статьи, история создания, библиография, поздравления, стихи. Университет открыт – миссия выполнена, но судьба берет высокую цену за эту победу. В этом же номере на 12 полосе маленький квадрат некролога Аделаиды Федоровны Ядринцевой – супруге, матери троих детей Николая Михайловича, верной помощницы в трудах и экспедициях, скончавшейся за 5 дней до томского триумфа. В одном номере «Восточного обозрения» развязаны два главных «узла» жизни.
»
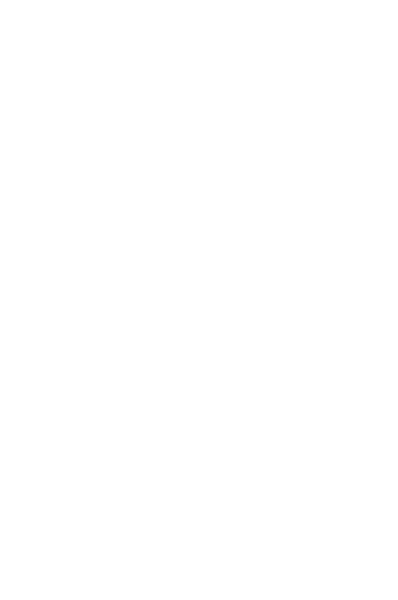
Финальный фундаментальный труд вышел в 1891 году и объединил все исследования, экспедиции, бытовые наблюдения ученого. Результат жизни и полевых работ – книга «Сибирские инородцы, их быт и современное положение: этнографические и статистические исследования с приложением статистических таблиц» и сегодня является практическим учебником по этнографии. Здесь исследователь дорастает до ученого евразийского масштаба. Не случайно, следующим замыслом было преодоление границ материка. Диалог между Сибирью и Америкой стал еще одной сквозной темой жизни ученого.
»
В 1893 году отправляется на Всемирную выставку в Чикаго, где активно работает с американской профессурой: «Образованных американцев, с которыми я встречался, я старался убедить, что Сибирь не страна только ссылки, но страна, представляющая все задатки гражданского развития и промышленности. Между прочим, я познакомился с профессором политической экономии Чикагского университета Пафлей, которому передал свою книгу о Сибири на немецком и получил от него приглашение написать статью о Сибири для журнала, издающегося при университете. В отделе антропологии и археологии на выставке я оставил альбом нашей последней экспедиции в Монголию, изданный академией наук; оглавления и пояснения перевели на английский» («Из бумаг сибирского патриота»). Собрав большое количество материала на американском континенте, Ядринцев уверился, что его выводы о колонизации Нового света верны. Были написаны первые 100 листов под рубрикой «Путешествие в Америку. Очерки из жизни и истории европейских колоний». К сожалению, книга «Сибирь и Америка» так и осталась нереализованной мечтой.

»
- Н.М. Ядринцев во время экспедиции по Алтаю.
»
Желал бы я, чтоб в недра дорогие
Мой прах ты приняла, родимая земля!
Лежать в чужой стране, где люди все чужие,
Где чуждые кругом раскинуты поля,
Я не могу!...
Мой прах ты приняла, родимая земля!
Лежать в чужой стране, где люди все чужие,
Где чуждые кругом раскинуты поля,
Я не могу!...
В апреле 1894 года сибирская пресса известила, что сибирский патриот приглашен заведующим статистическими исследованиями на Алтай и скоро будет в Барнауле. На шестой день пребывания в столице Алтайского горного округа Ядринцев скончался. Художественное переосмысление последних барнаульских дней дается в повести Ивана Павловича Кудинова «Последняя любовь Николая Ядринцева» - автора биографического романа о сибирском публицисте «Окраина». В 1900 году деревянный крест убрали, на средства, собранные по подписке установили памятное надгробие с колонной и бронзовым бюстом работы Константина Михайловича Сибирякова. По бокам четырехугольника были выгравированы названия книг великого сибиряка, а на оборотной стороне стелы строфа.
Уже в ХХ веке могила стала объектом большой детективной истории, с которой знакомит Александр Михайлович Родионов в очерке «Три головы Николая Ядринцева». Актуальное и сегодня наследие нашего героя доступно для массового читателя не в полной мере. Три главных книги «Русская община…», «Сибирь как колония», «Сибирские инородцы…» переиздаются приблизительно раз в десятилетие – их можно найти в библиотеках и в глобальной сети. Титанический подвиг коллектива под руководством Николая Николаевича Яновского – два ядринцевских тома в «Литературном наследстве Сибири» собрали лучшую публицистику, но за сорок лет стали библиографической редкостью. Отдельные редкие произведения в сборниках можно найти в электронном виде на сайте Томской научной библиотеки. К радости, доступен большой архив «Восточного обозрения». Остаются некоторые надежды с «Тайжанами» – по свидетельству Николая Валентиновича Серебренникова: «окончательный вариант романа не удалось отыскать ни в столичных и томских архивах, ни по запросам в сибирских архивохранилища; остается надеяться, что когда-нибудь он найдется». Исследования и публицистика последних пяти лет жизни ученого ждут выхода в свет.
Уже в ХХ веке могила стала объектом большой детективной истории, с которой знакомит Александр Михайлович Родионов в очерке «Три головы Николая Ядринцева». Актуальное и сегодня наследие нашего героя доступно для массового читателя не в полной мере. Три главных книги «Русская община…», «Сибирь как колония», «Сибирские инородцы…» переиздаются приблизительно раз в десятилетие – их можно найти в библиотеках и в глобальной сети. Титанический подвиг коллектива под руководством Николая Николаевича Яновского – два ядринцевских тома в «Литературном наследстве Сибири» собрали лучшую публицистику, но за сорок лет стали библиографической редкостью. Отдельные редкие произведения в сборниках можно найти в электронном виде на сайте Томской научной библиотеки. К радости, доступен большой архив «Восточного обозрения». Остаются некоторые надежды с «Тайжанами» – по свидетельству Николая Валентиновича Серебренникова: «окончательный вариант романа не удалось отыскать ни в столичных и томских архивах, ни по запросам в сибирских архивохранилища; остается надеяться, что когда-нибудь он найдется». Исследования и публицистика последних пяти лет жизни ученого ждут выхода в свет.
»
https://www.youtube.com/watch?v=MVmeK-sg7AY">
О столице чингизидов Каракоруме
Лекция
»
В 2023 г. выходит первая за последние 100 лет биография Н.М. Ядринцева
Что вы знаете о Николае Ядринцеве?
